Костюкович, М. «Надо помочь Турову сделать то, что надо» / Мария Костюкович // На экранах. — 2016. — № 10. — С. 4—7.
Известное дело, на киностудии нет ничего важнее худсовета. По крайней мере, в 1960-е, когда Виктор Туров пришел на «Беларусьфильм» после ВГИКа, было так. За годы труда худсовет подобрел, а тогда он был еще полон сил, чудовищно изобретателен и мог погреметь именами и звучными, и пугающими: когда Виктор Туров становился режиссером, на худсовет собирались Владимир Корш-Саблин, Лев Голуб, Иван Шемякин, Аркадий Кулешов, Андрей Макаёнок, Кастусь Губаревич, и слово каждого из них было вполне весомо, чтобы зарубить сценарий и фильм. Особенно слово Корш-Саблина — оно было вполне себе тем самым, которое «было вначале»…
Худсовет много лет отвечал за создание увлекательной биографии фильмам. Любой фильм, вышедший на экран в советское время, выжил в смертельной схватке с худсоветом, и не только с ним — он словно дракон, охраняющий другого дракона, который тоже охраняет дракона, который охраняет какую-то тайну или просто порядок. Хроники битв лежат пятисотстраничными томами в архивах и свидетельствуют о том, как легко каждый из этих фильмов мог вообще не увидеть свет, хотя плохим сценарием и плохой постановкой не страдал.
В этих хрониках хорошо видно, что молодого режиссера Виктора Турова худсовет скорее любил, чем наоборот, но это не спасало его от бесконечных полосканий — их на его голову выпало больше, чем на его коллег, и будь Туров не так покладист и везуч, его дебютных фильмов запросто могло не случиться. О том, как на «Беларусьфильме» воспитывали молодого режиссера Турова и его первые фильмы, рассказывается ниже.
Худсовет «Беларусьфильма» и, кажется, всех других советских киностудий к авторам применял одну и ту же макиавеллевскую стратегию: доброжелательное уничтожение. Его главной задачей была перестраховка: он должен был не столько помочь автору, сколько предугадать, что в фильме не понравится вышестоящим, и искоренить это раньше. Одной рукой он гладил автора, а другой четвертовал, приговаривая «все очень хорошо, но очень плохо». Другой особенностью советского худсовета была его медлительность и противоречивость. Каждый раз (а разов было множество — на литературную заявку и каждый вариант литературного и режиссерского сценариев, на постановочный проект и пробы актеров, на каждую редакцию фильма и на его окончательную сдачу) между предыдущим и текущим мнением худсовета не было ничего общего, а замечания вымышлялись с поразительной изобретательностью. Словом, худсовет обладал колоссальным духом противоречия не только автору, но и самому себе: как сказал Туров на одном заседании, «худсовет каждый раз говорит другое».
Своим игровым короткометражным дебютом Виктор Туров считал «Звезду на пряжке» в киноальманахе «Маленькие мечтатели» 1962 года, а о новелле «Комстрой», вышедшей годом раньше в «Рассказах о юности», был невысокого мнения. Как можно угадать, «Комстрой» был принят худсоветом гораздо быстрее и спокойнее, чем «Звезда на пряжке». Она раззадорила худсовет больше двух других новелл альманаха — по общему закону притяжения молний. Равнодушно и вскользь худсовет хвалил «Юлькин день» и «Ошибку», а вот о «третьей новелле», как называл «Звезду на пряжке» худсовет, следовали громадные тирады, которые начинались, разумеется, тоже за здравие. Говорили даже об исключении новеллы из альманаха — не вставала в ряд. Поло-
жение начинающего режиссера Турова усугублялось тем, что вместе с ним замечания худсовета слушал автор сценария, Геннадий Шпаликов, не желавший выказывать почтение. Он с удовольствием стал для худсовета красной тряпкой и тоскливые заседания заметно оживлял.
«Звезда на пряжке» по новелле Янки Брыля начиналась с единодушного одобрения первоисточника. В июне 1961 года Шпаликов представил худсовету литературный сценарий, который тоже был бы одобрен — если бы главный герой, ветеран и кочегар Лапша, не выпивал с товарищами в День Победы у котельной за то, чтобы войны больше не было. Пьянству в фильме о детях худсовет воспротивился насмерть и замучил авторов замечаниями, пока Шпаликов не прислал из Москвы телеграмму: «Сцену у котельной отказываюсь переделать принципиально тчк случае дальнейших нехудожественных возражений работать на студии считаю невозможным Шпаликов». Виктор Туров в работе над этой новеллой впервые проявил удивительную верность, которая стала его чертой в сотрудничестве: отныне и всегда он работал над сценарием вместе с кинодраматургом, а потом вежливо и твердо защищал сценарий, его авторов и персонажей перед худсоветом. Так были защищены Павел Нилин, Геннадий Шпаликов, Алесь Адамович — так Туров трижды защищал себя в работе над «Людьми на болоте».
Сцену в котельной отвоевали. Геннадий Шпаликов отбивался нападением, Виктор Туров — более действенным оправданием и сценариста, и сценария, и фильма, и худсовета. Отбиться удалось во многом потому, что директор киностудии Иосиф Дорский был добр к молодым сотрудникам, особенно когда они талантливы. Вот об этом из протокола обсуждения последней редакции «Маленьких мечтателей» 20 января 1962 года*:
«ШПАЛИКОВ: Чувствую, что мы по-разному смотрим на искусство. Мне жалко ребят. Две безвкусные картины, сделанные ремесленниками, не вызывают чувств и поэтому сомнений. Я не считаю картину идеальной, но мне очень нравится рассказ Брыля. Детям, родившимся сейчас, говорят о том, что был фашизм и война. И об этом надо говорить сурово, нельзя говорить светло. А людей, которым фильм не нравится, я понимаю и хочу, чтобы им и впредь мои картины не нравились.
ТУРОВ: Я считал, что эта работа будет моим дипломом. Мне очень нравится рассказ. Но я говорил, что новелла не может быть детской. Сейчас говорят о том, что эта новелла не может идти с остальными двумя. Я с этим согласен. Мы хотели эту новеллу посвятить самому страшному — войне, на которой и я, и Шпаликов потеряли отцов. И Лапша у нас такой, потому что он и через 16 лет не может избавиться от того тяжелого и страшного, что легло на его плечи за 4 года войны. Нам хотелось сказать, что рядом с нами ходят люди, у которых нет других звезд, кроме звезды на пряжке, но и они герои. Ведь не пьют же они ради пьянки. Мы только один раз показываем, как они пьют. Они больше молчат. Говорят, слушают старую фронтовую песню. Я не хотел бы ломать новеллу. Прошу позволить сделать ее моим дипломом.
ДОРСКИЙ: Хочу ответить Шпаликову. Молодым товарищам мы все время помогали. Но мы хотели, чтобы они уважали нашу коллективную мысль. Сегодня и вчера мы увидели, что мысль, заложенная в новелле, не доходит. Надо сделать, чтобы она дошла. Творческую индивидуальность мы всегда будем поддерживать. Надо сейчас помочь Турову сделать то, что надо».
Удивительно: начало карьеры Турова сложилось из двух таких парных связок фильмов, в которых один единодушно оценивался как добросовестный, но не блестящий и одобрялся худсоветом без проволочек, а второй, признанный неординарным на каждом обсуждении, долго и трудно пробивался на экран. Так было с короткометражными «Комстроем» и «Звездой на пряжке» — и с полнометражными «Через кладбище» и «Я родом из детства».
Сценарии «Через кладбище» Павла Нилина и «Я родом из детства» Геннадия Шпаликова появились на киностудии почти одновременно в начале 1962 года и обычно обсуждались вместе. В протоколах вскользь упоминается о том, что Туров хотел ставить шпаликовский сценарий, но ему рекомендовали выбрать нилинский, и Туров согласился, объяснив, что эта история близка ему точным образом военного времени и военной Беларуси. Еще более странно, что «Я родом из детства» был тоже оставлен за Туровым, а не отдан другому режиссеру. Когда читаешь, с какими чудовищными и нелепейшими затруднениями проходил «Я родом из детства», кажется, будто «Через кладбище» сравнительно быстро и мягко вышел на экраны только благодаря тому, что все силы худсовета и вышестоящих цензоров были брошены на противостояние фильму «Я родом из детства», который мог вызывать опасения из-за долгих истязаний другого фильма по сценарию Шпаликова — «Заставы Ильича» Марлена Хуциева.
Вот фрагмент из протокола одного из обсуждений сценариев 22 октября 1962 года:
«По сценарию «Я родом из детства» Геннадия Шпаликова:
КУЛЕШОВ (писатель Аркадий Кулешов. — Здесь и далее в скобках прим. авт.): На этот сценарий пока нет режиссера, так как Туров делает «Через кладбище», и заняться сценарием Шпаликова он сможет через год, не раньше. Поэтому о запуске сценария в режиссерскую разработку пока не может быть и речи, пока мы не пошлем его на рассмотрение в Министерство культуры. По этому сценарию был сделан ряд замечаний, но общее отношение к сценарию положительное.
ШАМЯКИН (писатель Иван Шамякин): Сценарий мне нравится. Я на месте режиссера сначала бы ставил это. Это мне кажется свежее. Значительно меньше повторяет то, что было в кино. Мне понравилась манера. У нас в кино выработался какой-то штамп. У Шпаликова этого нет. Мне понравились эти ребята. Целое поколение сирот, как они воспринимают мир. Есть правда жизни в этой вещи.
ГУБАРЕВИЧ (кинодраматург Кастусь Губаревич): ‘ Мне многое нравится в этом сценарии. Он написан во многом лучше нилинского. Великолепна сцена с уроком немецкого языка, сцена танцев в парке. Но я хочу сказать о другом, об авторской заявке, которая пронизывает весь сценарий «Мы родом из детства» из страшного военного детства. И вот такой заявке сценарий не соответствует. Детство этого времени было труднее, страшнее, трагичнее, чем об этом говорится в сценарии. У детей того времени было великое чувство ответственности за жизнь матери, братьев, сестер, отца, бабушки. И не такое беззаботное было оно. Запись сценария свежа, но не в этом дело. Дело в тональности сценария, в облегченности. Фон, второй план дается правильно, но первый, по которому идет автор, облегчен. И если фильм будет сделан по этому сценарию, фильма не будет.
КУЧАР (кинодраматург Алесь Кучар): Меня обстановка не смущает. В новой манере записано, но рядом с этим достаточное количество старого материала. А главное, что меня смущает мысль сценария. Главная мысль — мы вышли из тяжелого детства. Но это не мысль для художественного произведения.
КУЛЕШОВ: То, о чем говорили Губаревич, Кучар — это собственно то, о чем мы говорили Шпаликову. Мысль, обобщающая сценарий, присутствует, но не нашла своего точного выражения. Я думаю, что правильно выражаю и мысль режиссера. И Шпаликов это понимает. Автор и режиссер — люди талантливые, и мы можем принять сценарий, но пока не дадим в Главк и Министерство на утверждение».
После этого обсуждения стали происходить совершенно необъяснимые вещи. Сценарий, всеми одобренный, лег на беларусьфильмовскую полку по странной причине. Он вроде был хорош — и точно лучше, чем другие сценарии этого времени, быстро шедшие в производство, но в план не включался, потому что режиссер был занят и еще неясно почему. Эта темная причина отсрочила выплату гонорара Шпаликову на пару лет.
Из письма Шпаликова директору «Беларусьфильма» Иосифу Дорскому 25 ноября 1962 года:
«Пишу вам письмо деловое и скучное. Я посылал телеграмму, из которой (если вы ее получили) становилось ясным мое положение по деньгам на сегодня. Оно самое невеселое. Потиражных не перевели и переведут не раньше, чем через месяц. Я очень надеялся на последний вариант «Я родом из детства», и он был хорошо, по-моему, принят и по-человечески, и официально, но вот уже прошел месяц, а то и больше, и никакого сдвига в каком-то окончательном расчете нет, и я не знаю, будет ли он, поскольку запуск этого сценария — дело уж не такое срочное, и я могу подождать с оплатой».
Шло время, сценарий лежал.
Из ответа Иосифа Дорского на одно из последующих писем Шпаликова 22 мая 1963 года: ,
«В связи с тем, что в настоящее время происходит реорганизация Министерства культуры в Комитет кинематографии, мы считаем целесообразным обождать до окончания этой реорганизации, после чего студия тотчас же обратится с просьбой утвердить сценарий».
И вдруг «Беларусьфильм» поступает еще более неожиданно: посылает сценарий «Я родом из детства» на экспертизу в секцию кинодраматургии Союза работников кинематографии СССР. Мол, дайте профессиональную оценку этому сценарию: стоит он постановки или не стоит. Этот обескураживающий ход привел Бюро секции в такое изумление, что оно вошло в протокол обсуждения от 10 июня 1963 года:
«ЩЕГЛОВ (ответственный секретарь Союза Иван Щеглов): На студии разошлись в оценке этого сценария, и студия хотела проконсультироваться с Союзом, кто прав, принимая этот сценарий, или кто не прав, отвергая его, и как действовать.
ХРАБРОВИЦКИЙ (кинорежиссер и сценарист Даниил Храбровицкий): Тогда разрешите просить представителя студии информировать о положении на студии.
ШПАЛИКОВ: Сценарий был принят художественным советом и запущен в режиссерскую разработку. Но поскольку там нет министерства культуры, а комитет еще не организован, это в какой-то степени зависит от того, что скажут в Москве. Не знаю, какие могли возникнуть мнения помимо студии. На студии сценарий прошел абсолютно гладко, никакой необходимости в обсуткде-нии его не было.
ЩЕГЛОВ: Вы писали сценарий по договору со студией?
ШПАЛИКОВ: Я писал по договору, и режиссер был другой. Я не знаю, почему сюда приехал Четвериков. Я не хочу с ним работать, я работал с Туровым. Мы с ним должны были работать, но работа не была запущена непонятно из каких соображений.
КОВАРСКИЙ (кинодраматург Николай Коварский): Какой это вариант?
ШПАЛИКОВ: Третий вариант.
ФАДЕЕВА (редактор «Беларусьфильма» Лариса Фадеева): На студии сценарий принят. И студия приняла, и редакционная коллегия приняла. Сценарий был направлен на утвер>кдение в министерство культуры. Но министерство на закате своих дней по отношению к кино несколько затянуло рассмотрение сценария. Студия этим поставлена в такое положение, что не только не может рассчитаться с автором, но, пока сценарий
не принят министерством культуры, мы не можем говорить и о какой-то конкретной работе над фильмом.
СЫТИНА (писатель, кинодраматург Татьяна Сытина): Я считаю, что к нам есть смысл обращаться тогда, когда вопрос очень спорный. Но тут спора я не вижу. Студия этот сценарий полностью поддерживает. У вас нет творческих расхождений с автором. <… > Я глубоко в данном случае удивлена позицией студии, которая, будучи сама неспособна разобраться в этом вопросе, что связано с судьбой одаренного и хорошего человека, хочет, чтобы кто-то сделал за нее какие-то вещи, которые вы сами обязаны сделать, а вы сваливаете это на нас. Я считаю, это не по-товарищески и не этично, и не по-деловому.
ХРАБРОВИЦКИЙ: Я полностью присоединяюсь и разделяю точку зрения Татьяны Григорьевны Сытиной и считаю, что Бюро секции не пожарная команда.
СЫТИНА: И не лобное место».
В архивных документах киностудии не значится то чудодейственное событие, после которого возобновилось обсуждение сценария «Я родом из детства»: Туров был все еще занят фильмом «Через кладбище», Шпаликов оставался «неперевоспитуем», министерство культуры хранило молчание. Но 14 ноября 1964 года, через два с половиной года после первого обсуждения, сценарий, единогласно каждый раз признаваемый «превосходным, но…», был утвержден. Кажется, будто его изо всех сил откладывали до завершения фильма «Через кладбище», в обсуждениях которого, по иронии, всякий раз возникала тень сценария «Я родом из детства», как будто он было досадным препятствием для постановки шпаликовского сценария.
Пока «Я родом из детства» ждал утверждения, вышла на экраны тоже надолго застрявшая на цензурных блокпостах «Застава Ильича». После нее к Шпаликову на «Беларусьфильме» подобрели, будто раньше сомневались в возможности воплотить его сюжет и вдруг увидели чудо: оказывается, это возможно.
Тут же возникла иная проблема. Худсовет так сопротивлялся фильму «Я родом из детства», что, когда все препятствия были преодолены, он придумал новые. Например, усомнился в необходимости этого фильма сейчас, настаивал на том, что тема не актуальна, несовременна, неважна. Наблюдать, как «Беларусьфильм» сопротивлялся военной теме, когда она только-только входила в репертуар, по меньшей мере удивительно.
Из протокола обсуждения литературного сценария «Я родом из детства» 14 ноября 1964 года:
«КУЧАР: Я весьма высокого мнения об этом сценарии. После «Заставы Ильича» я лучше понял драматургию Шпаликова. Наш сценарий — это сама правда.
ШАМЯКИН: Я уже выступал за этот сценарий. Привлекала большая жизненная правда. Это сделано талантливо. Это оптимистично, очень правдиво. Я за повествовательную манеру в кино.
МАКАЁНОК (драматург Андрей Макаёнок): Не понимаю, зачем это написано. Лучше такую же правду писать о сегодняшнем дне.
КУЛЕШОВ: Вопрос войны для современности — самый острый, самый большой вопрос. Другое дело — достаточно ли остро и доходчиво поставлен этот вопрос. Прав Лужанин — о чем мечтают ребята? Именно в таком возрасте больше всего мечтают, и так закладывается человек. Не хватает начала интеллекта у этих детей.
КУЧАР: Я тоже думал — зачем? Мне кажется, что это сценарий о бессмертии советского народа, о бесстрашии мальчишки, ложащегося под поезд. Солдат ослеп, но видит Чапаева. В изобразительном строе я вижу советскую философию. Да, атомный взрыв произошел, но советский народ сильнее. И все это без нажима сделано средствами искусства.
ТУРОВ: Сомнения Макаёнка понятны. И, очевидно, мы скоро будем иметь еще один сценарий и о другом. Мне близок и дорог сценарий Шпаликова о нашем времени, о наших сверстниках. Корень этого поколения закладывался в самые трудные годы. Гтворить прямые вещи об этом не следует. У Шпаликова не просто правда. Каждое из найденных автором событий закладывали в ребятах нечто для будущего. <…> О мечте. Шпаликов уже сказал, что ребята должны быть 13-14 лет. И детство их сокращено. Не было времени у них мечтать. Они были заняты реальными делами. <…> О финале. Очевидно, в дальнейшем мы найдем точку. А сценарий мы действительно рассматриваем как запев к дальнейшему развитию этой темы.
ШПАЛИКОВ: Я очень верю в режиссера, и он понимает раза в два больше, чем записано. Я очень прошу, чтобы мы все вместе эту картину осилили.
ПАВЛЁНОК (председатель Гэскино БССР Борис Пав-лёнок): Сценарий — это кусок траектории поколения, которое берет начало от последнего взрыва бомбы. Это то поколение, которое теперь вершит самые светлые дела. Это не должна быть картина просто о трудном детстве. Она должна быть обращена в сегодняшний день».
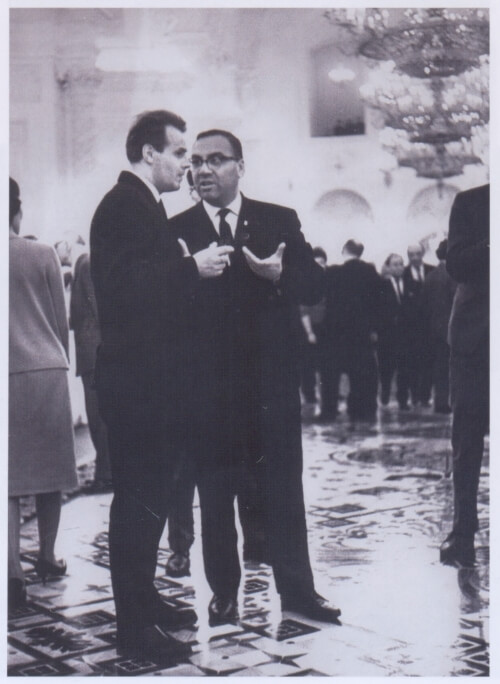 С этими словами сценарий наконец утвердили, на этот раз с одним-единственным недостатком — не-современностью, это значит несвоевременностью. Ну, в этом точно были правы. Несвоевременность — свойство всех талантливых произведений. На талантливое никогда нет времени, а заурядное всегда удивительно своевременно. Оно точно совпадает с моментом, в котором было создано, довольствуется своей краткой славой и очень скоро исчезает, как только время перестает быть «своим». Самые посредственные произведения своевременны любому из времен, в каждом из них могли появиться и с тем же успехом —« не появиться: у «своего времени» очень короткая память. Иными словами, новая и главная претензия к сценарию Шпаликова наконец выразилась почти прямо: он виновен в том, что несвоевременен, то есть — талантлив.
С этими словами сценарий наконец утвердили, на этот раз с одним-единственным недостатком — не-современностью, это значит несвоевременностью. Ну, в этом точно были правы. Несвоевременность — свойство всех талантливых произведений. На талантливое никогда нет времени, а заурядное всегда удивительно своевременно. Оно точно совпадает с моментом, в котором было создано, довольствуется своей краткой славой и очень скоро исчезает, как только время перестает быть «своим». Самые посредственные произведения своевременны любому из времен, в каждом из них могли появиться и с тем же успехом —« не появиться: у «своего времени» очень короткая память. Иными словами, новая и главная претензия к сценарию Шпаликова наконец выразилась почти прямо: он виновен в том, что несвоевременен, то есть — талантлив.
Тем не менее несвоевременный сценарий вскоре сделался и совсем любимым у худсовета. Причина, может быть, проста: уйдя в режиссерскую разработку, сценарий переложил все свои раздражительные достоинства и недостатки с головы неисправимого сценариста на голову режиссера, еще как будто поддающегося муштре. Между прочим, можно заметить и то, как неугодный прежде сценарий, в котором все было необъяснимо хорошо, но все-таки необъяснимо плохо, стал новой основой для сравнения, и режиссерские решения были необъяснимо плохими уже в сопоставлении с ним.
Отснятый материал, обсужденный 23 февраля 1966 года, наконец, настроил худсовет за фильм. С оговорками, которые в свете прежних замечаний кажутся вовсе пустяковыми, он был принят даже радостно:
«ГУЗАНОВ (редактор фильма Виталий Гузанов): Наконец-то несюжетный Шпаликов получил эквивалент в изобразительном решении фильма «Я родом из детства». По мысли, по композиции видно, что картина может быть необычная. Хорошо сочетается режиссерское решение с операторской работой. В фильме единое стилевое решение в духе драматургии Шпаликова.
КОРШ-САБЛИН (кинорежиссер Владимир Корш-Саблин): У меня двойственное ощущение. Очень нравится работа оператора, режиссера по мизансценам, работа художника. Но я вспоминаю сценарий — это кусок нашей истории, биография поколения. И тогда мне чего-то не хватает. В сценарии каждый эпизод раскрывает человека. И было много людей, кроме двух мальчиков.
ТУРОВ: Теперь нам нужны возможности, условия и время, чтобы кончить картину. А с производством сейчас на студии плохо. Картина — кость в горле для цехов».
Стоит ли говорить о том, что фильм был принят почти мгновенно, всего лишь в третьей редакции, как явная удача молодого режиссера Турова и чуть менее явная удача сценариста Шпаликова, с несмертельными замечаниями, неминуемыми ввиду молодости авторов, как то: городок в фильме то какой-то маленький и неточный, то большой и слишком точный, в зависимости от мировоззрения члена худсовета, и мальчишки то слишком взрослые, то слишком детские для своего возраста, и события то надуманы, то чересчур правдивы.
На советский экран фильм вышел в канун 1967 года и тут же собрал гроздь критических отзывов, которые сводились к тому, что фильм вроде хорош, но все же плох. Как сценарий Шпаликова был, по мнению худсовета, слишком литературен и потому не кино, так фильм Турова, по мнению критиков, был чересчур кинематографичен и потому неправда. Тем временем фильм «Через кладбище» прошел в прокате тихо, не привлекая лишнего внимания, набрав чуть-чуть тишайших критических отзывов. Самым злым был упрек в том, что некоторым сценам не хватает драматизма. В сравнении с изощренными замечаниями к фильму «Я родом из детства» это просто шутка: можно убедиться по книге «Все белорусские фильмы».
На самом деле это история об удачливости, которой, как видно, хватало молодому режиссеру Турову в начале карьеры на «Беларусьфильме». Она не исчерпывается умением ладить с худсоветом — хотя этим владели далеко не все авторы — и не сводится к везению. Это скорее искусство маневрирования, где все препятствия, которые кажутся гибельными, в конце концов сами складываются в большой путь, помогающий идти. Это история об умении упрямо не оправдывать ожиданий и создавать несвоевременные фильмы.
Напоследок еще озадачивающие сведения: за год проката «Рассказы о юности» посмотрели 18 миллионов 136 тысяч человек в СССР и 618 тысяч в БССР, «Маленькие мечтатели» — чуть больше 4 миллионов зрителей в СССР и 79 тысяч человек в БССР. «Через кладбище» собрал 11,8 миллионов зрителей по всему Союзу и 357 тысяч в Беларуси, а «Я родом из детства» — 7,612 миллионов и 322 тысячи соответственно. Нет, эти цифры ни о чем не говорят. «Часы остановились в полночь» посмотрели, например, два миллиона зрителей в БССР, а «Альпийскую балладу» — 147 миллионов по всему Союзу. Просто цифры, просто к сведению…
* В статье использованы материалы Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства (фонд 112, опись 1, дела 363, 367)
